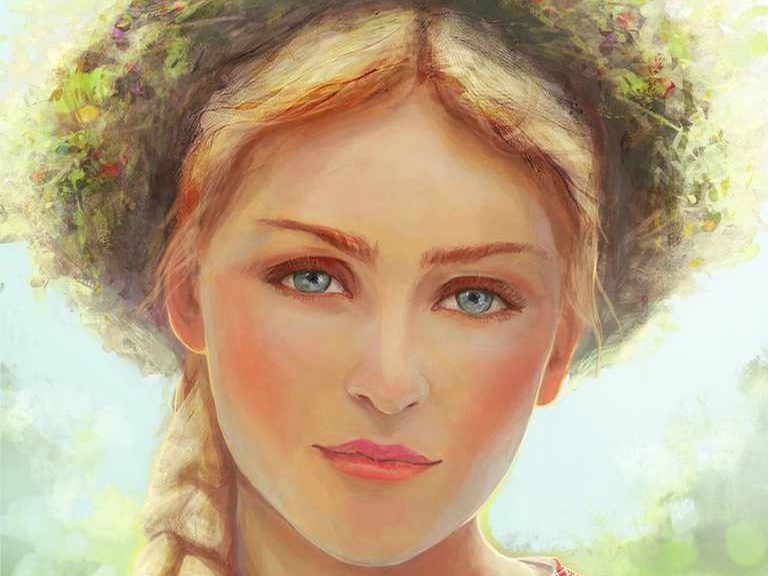ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КЛАССИКИ
Добраться до небес, перепрыгивая
с квадрата на квадрат, со своим
камешком (или неся свой крест?).
Х. Кортасар, «Игра в классики»
Глава десятая
На асфальте синим мелом была начертана продолговатая фигура, составленная из крупных квадратов. Одиночные и сдвоенные квадраты последовательно чередовались, внутри каждого был вписан порядковый номер. Заканчивалась фигура полукругом, заключавшим в себе слово «рай». Женя Солев не умел играть в классики, но он не раз видел, как дети прыгают по квадратам то на одной, то на двух ногах, нагибаются, чтобы подобрать камешек, и вновь прыгают. Мальчик подметил, что иногда в полукруге над квадратами пишется слово «огонь», и вот теперь, бесцельно и одиноко прыгая по синим квадратам, обнаруженным на асфальте, Женя подумал: «Рай или огонь… Что же это за игра такая?» Можно было бы, конечно, спросить у мамы — вон она сидит, на лавочке, — и тогда всё стало бы ясно, однако мальчик отчетливо почувствовал, что совсем не хочет ясности. «А то получится, как с «крысками» и горкой!» — подумал он.
Утром этого дня Женя Солев, одетый совсем по-взрослому — в черный костюмчик с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, — пошел первый раз в первый класс. По пути в школу солнце пристально смотрело в его лицо, а тень, крепко пришитая к подошвам новых ботиночек, волочилась позади, явно не желая учиться: тень была очень длинной и, наверное, думала, что таким длинным не место в школе, что такие длинные должны служить в гвардии или играть в баскетбол. Мальчик, в общем-то, был согласен с тенью и даже немножко жалел ее, но отпустить эту темную дылду на все четыре стороны ну никак не мог. А теперь, когда он в один прыжок преодолевал границу между классами (вот бы и в школе так!), тень тоже была длинной, но направление ее изменилось по сравнению с утренним, и выглядела она веселее, и прыгала с удовольствием. «Так-то, — подумал Женя. — Не хуже, чем в баскетболе!» Перескакивая из класса в класс, он вспоминал утренние события.
На линейке было очень празднично: много букетов, бантов, кружев и оборочек, галстуков-бабочек… Оглядывая нарядных сверстников, Женя вдруг понял, что цветы в букетах мертвы, а банты и галстуки-бабочки никогда не взлетят, взмахнув крылышками: они насмерть пришпилены, как в коллекции, а кружева и оборочки очень похожи на растительные венки и гирлянды, но они даже мертвее, чем цветы в букетах: они не могут увянуть… Однако это царство смерти, внезапно открывшееся мальчику, не испугало его, а заставило призадуматься. «Жизнь и смерть — подружки, — понял Женя. — Они ходят, взявшись за руки». Он рассудил, что подружки помогают одна другой: на фоне мертвого жизнь выглядит живее — как сейчас, а если кто-нибудь умирает не понарошку — это уже жизнь помогает смерти, это грустно… Так или почти так думал Женя Солев, стоя на линейке в ряду первоклашек.
Между тем директор, седой и щекастый, говорил что-то длинное и ободряющее, потом дети, постарше, чем Женя, танцевали под очень громкую музыку, затем совсем большие одиннадцатиклассники пели грустную песню про школу и читали стихи… Учителя — взрослые дяди и тети — стихотворно клялись, что будут хорошо относиться к ученикам. «Клянусь транспортиром, указкой и мелом, — мысленно повторил Женя вслед за учительницей математики. — Транспортир — это, наверное, машина. Мы ездим на общественном транспорте, а у нее есть собственный транспортир…» После учителей клялись родители, причем одна чья-то мама полностью произносила клятву, а остальные только соглашались. Например, она клялась, «детей баловать иногда» или «готовить вкусные блюдá» и спрашивала: «Да?» — «Да!» — отвечали родители хором, а Женя загибал очередной пальчик. «Двенадцать, — подумал он, когда клятва окончилась. — Как в Символе веры».
Но до конца торжества Женина серьезная сосредоточенность всё-таки не продержалась: она бесследно расточилась при виде финального акробатического номера, и мальчик засмеялся, и захлопал в ладоши. Да и разве можно было удержаться от смеха, если маленькая девочка оседлала большого дядю, да еще и звонит при этом в красивый медный колокольчик… А дядя — укрощенный, не взбрыкивает, лишь отклоняет голову в сторону от шумной наездницы и так и рысит по внутренней границе школьного каре, с головой набок…
С линейки первоклашки шли парами, а взрослые, сопровождавшие их, держались неподалеку. Женя опять был в паре с Сашей, совсем как в детском саду, только теперь маленький отряд возглавляла не тетя Тамара, а учительница Лидия Михайловна. Глянув на нее, Миша Солев оценил: «Молодая, некрасивая, добрая», — и вспомнил свою первую учительницу — кругленькую строгую старушку, поставившую ему «кол» за непростительную ошибку в слове «жизнь».
Миша с матерью и отчимом шли в потоке родителей, параллельном потоку первоклашек. Софья Петровна спокойно улыбалась, а Виктор Семенович был серьезен и досадовал, что его рука с видеокамерой подрагивает. «Жалко, что Соня снимать не умеет, — думал он. — И чего я психую?.. Школа — хорошая, учительница — хорошая, сын — хороший… Первенец — вот и психую!..»
Рядом с Солевыми шли родители Саши — шапочные знакомые по детсадовским мероприятиям. «Хорошо, — думали родители обоих мальчиков, так что родительские мысли образовывали слаженный квартет. — Хорошо, что у нашего уже друг есть в классе. Попроще ему будет…» А если прибавить к родительским мыслям мысли самих Жени и Саши, вполне довольных тем, что будут одноклассниками, то получится уже не квартет, а секстет, что ли… «Наверное, секстет», — решил Миша Солев, придумавший эту музыкальную метафору.
Еще Миша думал о букетах: директор был попросту погребен под ними, да и Женина учительница едва волокла цветочную охапку. Куда их девать, спрашивается?.. Священники, например, солили пасхальные яйца в бочках, так что добро не пропадало, ну а тут-то не засолишь… К тому же, когда много цветов, от запаха задохнуться можно — какая-то классическая героиня так с собой покончила…
Между тем маленький отряд под предводительством Лидии Михайловны и в сопровождении почетного родительского эскорта достиг дверей класса, вошел в него, и учительница свалила букеты на свой стол, произнесши при этом что-то вроде «Уф!». «Еще бы не «уф»!» — мысленно усмехнулся Миша, наблюдая за происходящим через дверной проем. Почетный эскорт превратился в почетный караул: взрослых в класс не пригласили.
Перепрыгивая с квадрата на квадрат, по направлению к слову «рай» и в обратном направлении, Женя вспоминал длинную клумбу с рыжими бархатцами и кистястыми рябинами, протянувшуюся вдоль школы. В детском саду тоже росли бархатцы, и на них очень любили садиться оранжево-черные «жужи», отличавшиеся от всяких разных пчел, ос и шмелей отсутствием талии и добродушием. Если подкрасться к «жуже» так, чтобы тень от твоих ладошек не упала на нее, а потом схватить цветок, осторожно высвободить пленницу и держать ее пальчиками за спинку и брюшко, то «жужа» будет громко и обиженно жужжать, щекотно обнимать пальчик лапками, но никогда не укусит. Школьная клумба оказалась намного длиннее детсадовской, и непуганые «жужи» сидели на ней в огромном количестве: видимо, здесь их никто не ловил.
Потом было школьное крыльцо с огромными, по колено, ступенями, и Жене вспомнился праздник Введения во храм и история о том, как трехлетняя девочка Мария легко взбежала по огромным ступеням Иерусалимского храма… «Хорошо было Маше! — позавидовал мальчик, с пыхтением преодолевая ступени. — Ей Бог помог, а тут приходится ножками…» Когда детей ввели в класс, а родители остались вовне, мальчик подумал: «Как в святая святых!» — и с большим уважением посмотрел на Лидию Михайловну.
Они расселись: кто с кем хочет, но очкариков посадили на первые парты. Женя и Саша сели на третью парту первого ряда — как раз возле окошка. Точнее, сели не сразу: нужно было садиться тихо-тихо, а тишины никак не получалось, и дети стояли вдоль парт, пока наконец не умолкли и не успокоились самые шумные и егозливые, — и тогда ряды, один за другим, сели. Лидия Михайловна сказала и показала, как нужно сидеть за партой: спинка ровно, ручки перед собой, одна на другой, правая сверху («Про правую сверху знаю», — подумал Женя), если хотим что-то спросить — поднимаем руку…
А затем было награждение. Учительница зачитывала имя и фамилию из списка и вручала счастливцу или счастливице красивую карточку с прищепкой и «Свидетельство о присвоении почетного звания первоклассника». К счастью, награждены были все. Карточку с именем, фамилией и классом Лидия Михайловна попросила в следующий раз прикрепить к одежде и так и носить и поинтересовалась, кто хочет прочитать вслух текст «Свидетельства…». Проигнорировав многочисленных «якалок», учительница доверила эту почетную миссию Жене, скромно и тихо поднявшему правую руку…
— Будь смелее, первоклассник!
Посмотри: вокруг друзья.
Этот день — великий праздник
Для родных и для тебя! — приговаривал мальчик запомнившееся четверостишие в такт прыжкам по синим пронумерованным квадратам.
Когда в конце урока-знакомства Лидия Михайловна спросила, хотят ли первоклашки обратно в детский сад, ответом ей было хоровое: «Нет!» — и Женин голос, пусть и не очень уверенный, тоже вплелся в этот хор. А узнав, что назавтра, в воскресенье, уроков не будет, многие дети искренне огорчились.
— Женя! — послышался мамин голос, и мальчик замер посередине лестницы на небо. — Женя, домой пора!
Было действительно пора домой, раз об этом сказала мама, и первоклассник послушно подошел к ней, и взял за руку, и подумал: «Интересная игра — классики. Особенно если правил не знаешь».
* * *
«А почему бы и нет? — подумал Миша Солев, проснувшись воскресным утром. — Никто меня там не съест, а материал нужен позарез. Может, и прототипа родимого увижу: в городе этих заведений не так уж и много… Мама обрадуется и Женька с дядей Витей тоже — единственное, что плохо. Получается, что я их обманываю или, говоря помягче, зря обнадеживаю… Ладно, к чертям собачьим! — Парень энергично вскочил с постели и принялся одеваться. — Нужен материал — так пойди и возьми, безо всяких сантиментов. В конце концов, не черт, чтобы от ладана бегать!..»
Но на душе у Миши было всё-таки муторно, и о своем решении пойти в церковь он сообщил домашним с какой-то жалковато-ироничной ухмылкой и поспешно добавил, что он только посмотреть, удовлетворить, так сказать, любопытство…
— Удовлетворяй, чего уж там… — отозвался Виктор Семенович с одобрительной усмешкой. — Владимир Святой тоже поначалу всё любопытствовал, а потом Русь крестил.
Миша покраснел и, почувствовав это, мысленно охарактеризовал себя трехэтажным матерным эпитетом, а Виктор Семенович подумал, что пасынок похож на чистого юношу перед походом в бордель.
«Пять минут позора — и видишь будду Амида… Сорок минут позора — и ты на работе… — вспоминал Миша фразы из романов Виктора Пелевина. — Дались ему эти минуты позора!..» Воспоминания о пелевинских минутах позора посетили парня по пути в церковь — по горе, сквозь строй нищих, в потоке православных, по кладбищу этому долбаному… «Скорей бы уж! — нервничал он. — Придти, увидеть, победить — и всё, отмучаюсь и пойду пить пиво, а потом засяду за рассказ…» И еще Миша решил, что разведчик из него никудышный: наверняка всем вокруг понятно, что он здесь чужой.
«Но фишка не в том, что им всё понятно про меня, — думал он, стоя столбом во время службы и холодно наблюдая, как остальные крестятся и кланяются, поют хором что-то длинное. — Фишка в том, что я сам не могу их понять, то есть миссию разведывательную выполнить не способен. Механика службы, тексты молитв — это фигня, их и разведывать не надо: купил богослужебную книжку да прочитал. Можно даже вызубрить всё, благо память хорошая, и знать службу покруче, чем большинство из них. Но смысл-то моей разведки в том, чтобы понять православных: что они чувствуют во время службы, что после, как вообще мир видят… И они, главное, не против: разведывай, типа того, дознавайся. Стань одним из нас — и сразу всё поймешь!»
Мишу передернуло от этой простой и, казалось бы, на поверхности лежащей мысли, и в тот же момент смолкло всеобщее пение, завершившееся словами: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь». Солев заметил, что длинное, единообразное по музыкальному рисунку хоровое повествование об основах христианства велось от первого лица. «Значит, каждый поет о себе, о своей вере, и фишка тут совсем не в первом лице… Мало ли песен поется хором от первого лица — во время застолий, например, — подумал он и почувствовал, что мысль его неудержимо проваливается в какие-то нежелательные глубины. — Фишка в том, что прихожане верят в то, о чем поют. И если я тоже поверю в это и стану идти по жизни в соответствии с верой, то тогда, само собой, превращусь в православного и смогу понять православных. Но! — Мишу вновь передернуло. — Но если такое случится, то я не смогу понять никого, кроме православных! Чтобы петь хором, нужно знать слова и смотреть на дирижера! Чтобы не отвлекаться от пути, надо исключить окрестности из поля видимости, надо шоры на глазки надеть! Это же смерть для писателя!..»
— Что с тобой? — тревожно шепнула ему Софья Петровна. — На тебе лица нет!
— А что есть? — невесело пошутил Миша, безуспешно пытаясь унять крупную неврастеническую дрожь. — Я выйду ненадолго, проветрюсь.
— Тебе плохо? — спросил Виктор Семенович.
— Не волнуйтесь и не отвлекайтесь. Я вернусь.
По пути к выходу Солев вплотную столкнулся с Геной Валерьевым, кивнул ему и вырвался на свободу.
«Плохо, что заметил…» — обеспокоенно подумал Гена, кивая в ответ. Ведь так приятно было посматривать на этот соляной столб и гадать он или не он, и зачем, в любом случае, на службу пришел, и как ему, невоцерковленному, эта служба видится… И ведь думает он о чем-то, размышляет: в церкви либо молятся, либо размышляют, иначе как здесь два часа простоять?.. Внезапно Валерьев понял, что последнее рассуждение направлено против него же и постарался впредь не отвлекаться от молитвы. Но почти сразу после Символа веры, когда еще не исчезло пощипывание в области солнечного сплетения и окружающее оставалось радужно-переливчатым, соляной столб конвульсивно вздрогнул, кратко переговорил с рядом стоящими (ничего себе!) и направился к выходу, попутно узнав Гену и кивнув ему. «И впрямь Солев, — подумал Гена. — А «мама, папа, я — счастливая семья» — это, скорее всего, его родители и брат. Как всё приятно переплелось… Стоп! Не отвлекаться!»
Сидя на лавочке возле прицерковной клумбы с бархатцами, Миша слегка успокоился, и дрожь прекратилась. На безоблачном небе вовсю светило солнце и половинчато сиял купол: верхняя его часть и крест были вызолочены, а нижняя была черна, и парень подумал, что купол похож на шапку Мономаха, и, усмехнувшись, молвил:
— Тяжела ты, шапка Мономаха!
На бархатцах сидели пчеловидки — насекомые безобидные, которых он не раз лавливал в детстве, привязывал к лапке нитку и, держа на таком поводке, выгуливал некоторое время. Поначалу привязанные пчеловидки с мощным жужжанием тянули вперед, но потом уставали и садились на руку, и тогда их нужно было отпускать — либо вместе с ниткой, либо без нитки и без лапки. «Поймать, что ли? — подумал Миша с улыбкой. — Всё равно никто не видит…»
А Гена, хотя и следил за собой, проговаривая вслед за дьяконом слова ектеньи и вовремя кланяясь, всё-таки отвлекся. Да оно и простительно, тут бы любой отвлекся, и отвлеклись уже — вон, поглядывают искоса в их сторону, удивляются. Как же он их раньше-то не заметил? За Мишей наблюдал — вот и не заметил. Удивительно, конечно, но ведь у Бога всего много… И все-таки как же они могут службу понять? Ну, «Верую…» и «Отче наш…» могут по губам у дьякона прочитать, но остальное-то как? «Опять отвлекся! — раздосадованно подумал Валерьев. — Вот были бы у меня шоры, как у лошадок, чтобы глазками по сторонам не стрелять… Хотя с шорами я бы просто башкой бы вертел, шоры тут не спасут!..» Подумав так, он принялся творить Иисусову молитву и вскоре сосредоточился на службе.
«Короче, на чем я остановился? — строго спросил себя Миша, приструнивая мысли, расползшиеся по воспоминаниям о детстве, и слушая укоризненное жужжание плененной пчеловидки. — А остановился я на том, что православных мне не понять до тех пор, пока сам я не стану православным. А если я превращусь в православного, то не смогу и не захочу объективно писать об иноверцах. И так, кстати, с любой религией. И если я куда-нибудь вживусь до такой степени, что надену на глаза шоры этой религии, то как писателю мне придет писец, причем пятилапый. И что же выходит? Выходит, что писатель должен быть оборотнем-притворяшкой-имитатором, а иначе он будет дудеть в одну дуду и этой своей дудой довольно быстро заколебает читателя. Писатель должен быть свободным!» — решил он и, разжав пальцы, отпустил пчеловидку, после чего поднялся с лавочки и вернулся в церковь. Солев не стал проходить вглубь храма, а остановился в притворе, в месте, удобном для наблюдения, и мысленно скаламбурил: «Притвор — для притвор!»
Гена почувствовал, что в его затылок уперся чей-то взгляд, но оборачиваться не стал. Ему были не в новинку подобного рода искушения во время молитвы: или почесаться захочется нестерпимо, и если поддашься, то всё молитвенное правило прочешешься, как шелудивый, или слух вдруг обострится, так что через пять стенок всё слышно, и если станешь вникать в этот звуковой винегрет, то молитва в нем утонет… А теперь вот взгляд в затылок… Фигушки, не поддамся! И действительно, неприятное ощущение вскоре исчезло.
«А ведь многие чувствуют, когда на них смотрят, — подумал Миша. — Хорошо, что мой прототип не из таковских. Что же мы имеем, при взгляде со стороны? Крестится, кланяется — всё вовремя, даже с опережением небольшим… Деталька! Хочет показать, что знает службу, — выпендривается влегкую… «Отче наш…» запели — он поет громче нужного, та же хрень… Кажется, это гордыней называется».
А Валерьев во время всеобщего пения нет-нет да и посматривал направо от себя и радостно отмечал, что они тоже открывают рот, неотрывно глядя в лицо голосистого дьякона, поющего и дирижирующего на солее. И еще Гена заметил у них в руках книжечки, а значит, можно и без чтения по губам обойтись. «Молодцы какие! — подумал он. — Подойти бы к ним и спросить, как они дошли до жизни такой. И Валю бы Велину сюда, чтобы переводила… Опять отвлекся!..» Впрочем, уже можно было и отвлечься: Царские врата затворились и задернулись занавесью и где-то на клиросе невидимая псаломщица принялась четко вычитывать молитвы перед причащением — сколько успеет, пока врата не раскроются. «О чем они, интересно, говорят сейчас? — пытался понять Гена, наблюдая за оживленной жестикуляцией. — Эх, Валю бы сюда!»
«Я фигею!» — мысленно воскликнул Миша Солев, глянув чуть правее своего прототипа. Там стояли парень с девушкой и разговаривали на языке глухих. И ведь они всю службу, похоже, простояли, надо же!.. Но вот вынесли Чашу, все попадали на колени, даже глухая парочка, и Миша слегка склонил голову в знак уважения к чужой вере. «Сейчас причастие будет», — догадался он.
Гена не причащался в этот раз. Стоя в сторонке, он уважительно наблюдал за вереницей людей со скрещенными на груди руками и пел «Тело Христово…». «Много сегодня, — подумал он. — Надо было в три Чаши». Среди причастников он заметил и глухих и всё гадал, как же они поступят, там же имена называть надо… Ничего, справились: подали на бумажке, и даже не подали, а всё время, пока шли к Чаше, держали меж пальцев… Ах, умницы! Гена возликовал, будто сам в этот момент причастился.
Ко кресту Миша подходить не стал, и, пока дожидался остальных Солевых у выхода, размышлял о том, что что-то во всем этом есть, а что именно — ему не понять, и было обидно. «Ну, обида — ладно, переживу, — думал он. — Но ведь рассказ-то я пишу от имени православного вьюноши! Не взгляд на этого вьюношу со стороны, а от имени. То есть православные шоры для моего героя органичны, они ему в височные кости вросли. А на мне этих шор нет, я запросто могу лажануться, и тогда какой-нибудь православный читатель скажет мне: «А ты, дружочек, врешь». И будет уже не обидно, а стыдно!.. Что же делать?» Мимо прошел прототип с непонятной легкой улыбкой на губах — сделал вид, что не заметил, а может, и вправду не заметил, у дверей трижды перекрестился, обернувшись к иконостасу, и испарился. Сфинкс, блин, джакондообразный!
На церковном дворе задумчивый Гена чуть не столкнулся лоб в лоб с задумчивым священником — едва разминулись.
— Извините, — пробормотал юноша и вдруг воскликнул, складывая ладошки крестиком: — Отец Димитрий! Благословите, отец Димитрий!
Приняв благословение и восклонившись, он улыбчиво посмотрел в лицо батюшки и спросил:
— Вы меня не узнаете?
— Простите великодушно… — замялся тот и вдруг лучезарно улыбнулся. — Гена, кажется? Ведь это вас я причащал зимой в больнице?
— Да. Простите, что так и не побывал у вас в церкви, — привык в собор ходить. Вы ведь в Крестовоздвиженской служите?
— Служил. Теперь сюда перевели.
— Замечательно! Значит, вас можно поздравить с повышением?
— Да как сказать… — молвил отец Димитрий, заметно погрустнев. — Архиерей перевел к себе поближе, да от греха подальше… Впрочем, юноша, вам в наши поповские проблемы вникать не обязательно, — спохватился он.
— А Павел, — спросил Гена, — тот, что со мной в одной палате лежал, — вы его видели после больницы?
— Видел, и не раз, — ответил священник и вновь улыбнулся. — Сегодня он был здесь, я исповедовал его перед поздней обедней.
— Ничего себе! — воскликнул юноша. — Сплошные неожиданности: то знакомый мой пришел непонятно зачем в храм, ни разу не перекрестился, то глухонемые появились, вполне воцерковленные, теперь еще вы с Павлом — и всё в один день…
— Да уж, густо! — согласился батюшка. — А глухонемые — это мои прихожане, из Крестовоздвиженской. Я их и венчал. Замечательные ребята! Простите, Гена, мне сейчас младенца крестить…
— Конечно-конечно, до свидания!
— С Богом! — произнес отец Димитрий и пошел своей дорогой.
— Ну как, удовлетворил любопытство? — иронично поинтересовался Виктор Семенович, подойдя к пасынку.
— Удовлетворил, — мрачновато ответил Миша. — Пойдемте, а то я вас уже заждался.
Когда семейство Солевых вышло из собора, отчим продолжил расспросы:
— Ну а зачем ты всё-таки пошел, если не секрет?
— Витя… — укоризненно протянула Софья Петровна.
— Не секрет. Пишу рассказ о православном вьюноше — вот и решил подсобрать материала.
Насладившись жесткостью ответа и одновременно отметив, что в таком наслаждении есть нечто извращенное, Миша улыбнулся.
— А я-то думала… — грустно пробормотала мать и умолкла.
— Не переживай, Соня, — сказал отчим и, глянув на Мишу, который неотрывно смотрел куда-то в сторону (кажется, на тонкого русоволосого юношу, беседующего с молодым священником), — глянув на Мишу, отчим спросил: — И что, думаешь, получится?
— Что? — встрепенулся тот.
— Ну, получится у тебя написать рассказ о православном вьюноше?
— Получится, если постараться, — рассеянно ответил Миша.
— Но ведь ты не сможешь правдиво изобразить его внутренний мир! Как бы ты ни ухищрялся, всё равно проколешься на какой-нибудь ерунде. Разумеется, и православные вьюноши бывают разные, но кое-что общее у них есть, а ты этого общего не знаешь. Не знаешь, к примеру, что мы чувствуем на службе; хотя ты и был сегодня с нами, но в качестве зрителя, а не участника. Зритель и участник чувствуют по-разному…
— Да знаю я! — раздраженно воскликнул парень. — Сам сегодня об этом думал.
— И что же следует сделать, чтобы избежать ошибок?
— Чтобы избежать ошибок, следует перейти в категорию участников, то есть стать православным. Полный ответ, пять баллов, возьми с полки пирожок…
— А ерничать к чему? Ответ, что ли, не нравится?
— Не нравится! А если мне через год захочется о буддисте написать — что ж мне, буддистом становиться?
— Придется писать о буддисте с позиции православного вьюноши, — улыбнулся Виктор Семенович. — По-другому у тебя и не получится, если станешь православным.
— Но ведь любой буддист скажет, что это вранье.
— Скажет, и со своей точки зрения будет прав. Поэтому позицию нужно заявлять сразу, а еще лучше — не писать о буддистах, раз уж так дорожишь их мнением.
— Логика у тебя, дядя Витя, железная. Я и сам додумался до того же. Поэтому решил не становиться никем, чтобы сохранить свободу в выборе темы. Не хочу надоедать читателю.
— Ну, Михайло Николаевич, тут ты не прав. Никем быть нельзя. Если ты не буддист и не православный, то всё равно какое-то миросозерцание у тебя имеется — то ли светское, то ли стихийно-мистическое, то ли еще какое (я к тебе внутрь не заглядывал). Поэтому, если ты попытаешься описать внутренний мир православного или буддиста, то соврешь, а если напишешь о себе или себе подобных, то будешь правдив. Нет у тебя такой душевной пластичности, чтобы полностью перевоплотиться, да и ни у кого нет. Например, Акунин. Писатель талантливейший, изумительный стилист: как он делает свои романы под девятнадцатый век — это же просто блеск! Но вот взялся писать о православных, а у самого миросозерцание светское, с легким восточным уклоном. И что же получилось? Архиепископ у него, Митрофаний, — такой вроде бы, что православнее и некуда, изумляется, что монашка верит в сатанинскую одержимость. И поучает ее, что нет, мол, никакого беса, а есть зло, бесформенное и вездесущее. Бесы — это, мол, суеверие. И ведь Акунин на полном серьезе считает, что если уж архиепископ умный, то в бесов верить не должен! Есть такая поговорка: Бог шельму метит. Вот и с тобой что-нибудь в этом же роде приключится, если не за свое возьмешься.
Виктор Семенович замолчал и вопросительно взглянул на пасынка. Тот задумчиво смотрел под ноги. Подошли к кладбищенским воротам. Трое Солевых перекрестились на маковки храма, а Миша не стал. Когда ворота остались за спиной, парень сказал:
— Но ведь тогда писатель обречен либо на однообразную правду, либо на разнообразное враньё! Однообразие быстро надоест читателю, а во вранье могут уличить. Что же делать?
— Лучше не врать и писать о том, что знаешь, — ответил отчим. — Даже если у писателя ярко проявляется его религиозная принадлежность, это не значит, что он будет интересен только единоверцам. Например, Достоевский за рубежом — самый популярный русский писатель, а много ли там православных? Да и мне, если хочешь знать, очень интересно читать Пелевина, хотя он явный буддист. Правда, когда он со своей позиции пытается охарактеризовать христианство, то получается глупо: ну, помнишь, его сопоставление христианского мироустройства с тюрьмой или зоной и образ Бога с мигалками… А разве наш Бог с мигалками? С мигалками, спрашиваю, наш Бог? — весело повторил он, взъерошив Жене волосы.
— Не с мигалками, а с Евангелием, — ответил мальчик.
— Вот и я о том, — подтвердил Виктор Семенович. — А вообще, Миша, поступай, как знаешь. Походи в церковь, с нами поговори, — может, и поймешь что-нибудь, тогда и рассказ получится.
© Евгений Чепкасов